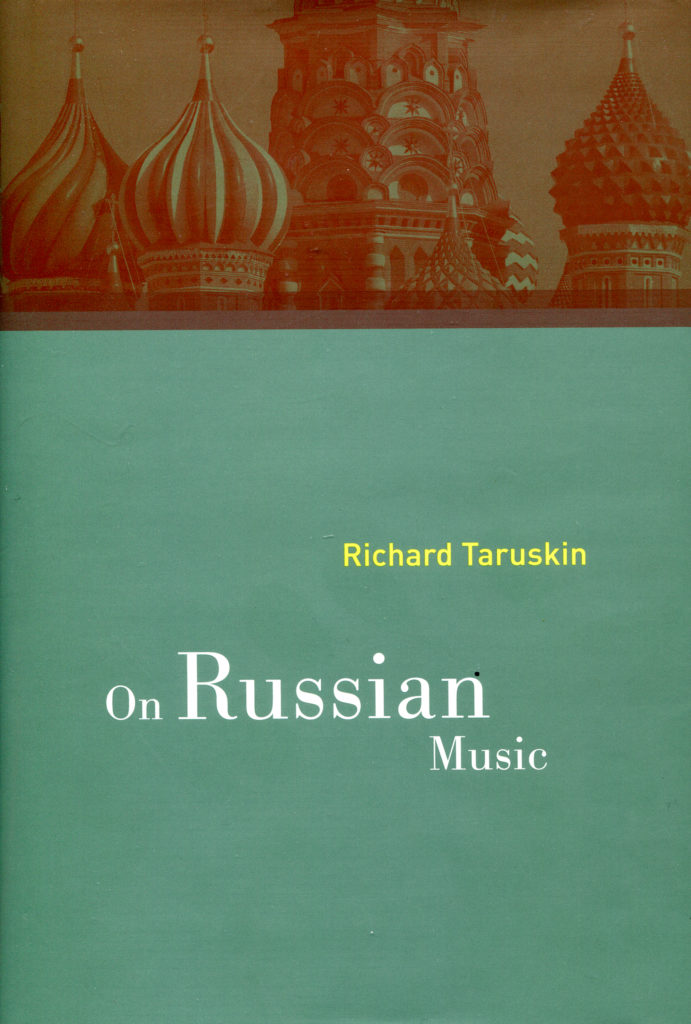№3 (1395), март 2023 года
29 декабря 2022 года ушел из жизни Эдуард Артемьев – композитор, удивительно разнообразный в своих творческих исканиях. Он в равной степени проявил себя и в киномузыке, и в академических жанрах, а также был одним из пионеров электронной музыки в СССР. О выдающемся музыканте наш корреспондент беседует с доцентом М.И. Катунян, исследовательницей творчества Артемьева.
– Маргарита Ивановна, с чего начался Ваш исследовательский интерес к Эдуарду Артемьеву?
– Он развивался постепенно, хотя импульс я помню очень хорошо. В 1970-е годы в Союзе композиторов был концерт, на котором Артемьев показывал свою новую электронную пьесу «12 взглядов на мир звука». Электронная музыка тогда была редкость, и это был такой авангардный пик, поэтому, конечно, попасть на концерт было совершенно невозможно. Но из-за того, что был большой наплыв желающих это услышать, открыли дополнительно трансляцию в Малый зал Союза композиторов. Самого Артемьева я не видела, поскольку трансляция была звуковая. Но эта музыка многое перевернула в моем сознании. И я подумала, что когда-нибудь я этим займусь. Я помню, после концерта мы с Юрием Николаевичем Холоповым шли до остановки троллейбуса и обменивались своими впечатлениями.
Прошло какое-то время, и я посмотрела фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». И прочитала там в титрах: «Музыка Эдуарда Артемьева». Я так удивилась. Непохожий стиль, непохожий язык – совершенно другой мир. А потом мне заказали статью о нем для сборника, и я прочитала все, что было тогда возможно, и поехала к нему брать интервью. Тогда он показал свою студию и то, как работает с электронным материалом. Так знакомство и произошло.
– В то время заняться электронной музыкой было крайне смело. Это была абсолютно новая область – и для композитора, и для музыковеда. Почему Вы все-таки на это решились?
– Эта музыка для меня была нова и необычна по языку. Я сначала довольно долго вслушивалась в нее, пока не научилась ориентироваться в ней. После этого появилось совершенно другое восприятие всего. Булез стал казаться простым и симпатичным! Я стала по-иному воспринимать звуки в бытовой среде… Как-то я рассказала Артемьеву, как в деревне брала воду из колодца. Когда поднимаешь ведро, вода выплескивается, брызги падают вниз, и появляются стеклянные звуки, которые гулко отдаются в глубине колодца. Там такие звучности великолепные – целое море звуков. Он мне на это ответил: «Вы – наш человек».
– А в чём своеобразие электронной музыки Артемьева?
– У него просто феноменальное звуковое воображение. Его материал – настоящие звуковые ландшафты. Его электронная музыка — многослойный сплав высокой органичности. Я помню, он при мне делал один из фрагментов. Что стало со звуком, когда он вставил его в общую композицию – просто расцвел!
Поэтому Артемьев – категорический противник готовых сэмплов. Он сказал, что как только стали выпускать готовые сэмплы, исследовательская мысль остановилась, потому что теперь можно брать готовое. А само «делание звука», в чем он был очень силен, прекратилось. Никакой готовый сэмпл не сможет выразить суть того, что он хочет найти.
– Для большинства людей Артемьев – прежде всего кинокомпозитор. Как Вам кажется, чем для него являлась киномузыка?
– К сожалению, киномузыка отнимала у него очень много времени, отрывала от собственного творчества. Ведь к нему режиссеры чуть ли не в очереди стояли. У него был фильм за фильмом, жизнь шла только на это. Но он видел в ней и плюсы. Киномузыка – это возможность экспериментировать с любыми исполнительскими средствами. Симфонический оркестр, детский хор, орган с его естественным тембром… Артемьев говорил, что в плане языка ты абсолютно свободен в кино. Все будет в любом количестве, без ограничения. Если режиссер доволен, что это решает задачу кадра – все! Где композитор, который сидит дома и пишет музыку, все это возьмет?! А для него это была возможность тут же на месте экспериментировать, что-то составлять, вбросить туда еще электронику, синтезаторы. Конечно, это открывает большие возможности для поиска. И потом, кино – надежный заработок. Все композиторы только за счет кино и жили: и Денисов, и Шнитке… Партитуру продать вот так невозможно, а в кино очень хорошо платили.
– Какова вообще роль композитора в кино?
– Я думаю, что в кино композитор – один из исполнителей. Не он решает, что писать. Если режиссер говорит: «Тут надо написать чувствительную мелодию», – то поневоле будете писать чувствительную мелодию. Но разнообразие может быть очень большое. Вот к «Сибириаде» Артемьев написал настоящий электронный рок-цикл, совершенно феноменальный по музыке. Даже виниловая пластинка отдельно была издана. Что уж говорить о музыке к «Одиссее»! Тема Одиссея, Греции, картины моря… Масштабная композиция, целый цикл. Ее можно было бы исполнять как концертную вещь.
– Заказ, многоязычность – не приводит ли это к стиранию индивидуальности?
– Нет, музыка Артемьева очень узнаваема. У меня несколько раз было, когда какой-то фильм показывали по телевизору, и я уже на слух понимала, что музыка его. И потом читала в титрах: «Эдуард Артемьев». У него совершенно уникальный мелодический дар. В его мелодиях нет банальности и клише, он никому не подражает и никого не напоминает.
Есть еще один важный момент. Когда режиссером ставятся неординарные задачи, то для Артемьева это выливается в очень смелые, уникальные эксперименты. Например, в «Солярисе» у Тарковского были пожелания передать среду и слышание этой среды человеком-субъектом. И Артемьев передает это обостренное слышание во всех деталях, призвуках и обертонах, как будто он сканирует пространство. Но это не просто документальная запись звуков дождя или шума ручья… Это еще пропущено через очень сложные электронные преобразования. Он мне показывал свои электронные партитуры – это головокружительные картинки!
Удивительно: вы слышите не то, что ручей шумит, а то, как Крис слышит этот ручей. Ведь он улетает с Земли навсегда и старается запомнить, как звучит Земля, потому что там, куда он летит, таких звуков не будет. И когда он оказывается в вакуумной пустоте, она тоже вся наполнена таинственными шорохами, странными звучаниями. То колокольчики прозвенели в дальнем переходе космической станции, то вдруг пошли какие-то звуки из глубины памяти. То он видит в иллюминаторе космической станции планету Солярис. Он вслушивается в нее, а она – в него, и у них контакт… Как это можно передать? Это даже сформулировать нельзя. Хотя Тарковский направил Артемьева в дзен-буддистское направление, дав ему прочитать диссертацию Григория Померанца о восточной философии, о дзен-буддизме, которая произвела на него сильное впечатление. Поэтому его музыка передает некое пребывание вне времени, ощущение бесконечности.
Вообще, то, чего Артемьев достиг в «Солярисе» – это больше, чем киномузыкальный успех. Это композиторское достижение невероятной важности, плод серьезного экспериментального исследования. Потом на основе музыки к «Солярису», «Зеркалу» и «Сталкеру» Артемьев сделал цикл из десяти частей. Виниловый диск был выпущен в Голландии. А последние фильмы Тарковский снимал уже без него. И очень чувствуется, что в этих фильмах не хватает Артемьева.
– Получается, что музыка к фильмам Тарковского смыкается с собственными композиторскими исканиями Артемьева? Но помимо электроники и киномузыки, у Артемьева есть пласт симфонической, кантатно-ораториальной музыки.
– Есть и рок-опера «Преступление и наказание». Он писал ее очень долго: много времени уходило на кино, приходилось откладывать. Но все же он ее дописал. Там есть драгоценные по музыке сцены. В его музыке есть Достоевский – и Раскольников такой, каким он был задуман в 1970-е – рок-мальчик на последнем нерве, сгорающий внутри. В целом это настоящая оперная музыка, мелодичная, экспрессивная. Жаль, что Кончаловский сделал много купюр при постановке.
Еще в 1980 году он написал крупный цикл к Олимпийским играм – «Оду доброму вестнику». Хотя это сочинение для спорта, но оно шире, по сути, это произведение космического масштаба по образности – про идеальное человечество в идеальном мире. Поэтому там даже есть часть «Гармония мира». Хоть Артемьев и христианин, у него как бы буддистский взгляд на это, и он воспринимает мир как нечто единое (та диссертация, которую он прочел во время работы над «Солярисом», поменяла его). Но тема спорта ему близка. Он был большой болельщик и всегда восхищался игрой сильных команд, их «ансамблем», их высоким искусством. Так что спорт для него – это человечество в своем совершенном проявлении, где есть и сила, и мастерство, и внутренняя гармония. В этом даже есть и древнегреческий идеал.
Артемьев мечтал о мистерии – это была скрябинская идея, но в его понимании. Он никого не хотел «дематериализовывать», но собраться всем вместе и в духовном единении что-то создать. И эта мистерия состоялась. Огромный стадион в Лужниках. Звучит музыка. Над стадионом в вышине около постамента для олимпийского факела стоят величественные фигуры. Появляется факелоносец, взбегает на самый верх, зажигает огонь. И все человечество видит это, включено в это – на стадионе и в трансляции.
Потом части из «Оды» вошли в его Реквием. Сейчас его название другое – «Девять шагов к преображению». Это удивительно, но при анализе «Оды» я заметила, что последовательность частей очень напоминает порядок мессы. Ведь это кантатно-ораториальный жанр: хор с оркестром, орган, а еще синтезаторы, ударная установка, рок-группа. Видимо, какая-то память жанра диктовала ему такую последовательность. И в Реквиеме все эти части уже каноническим текстом встали точно на свои места.
По стилю это уже не авангардная вещь, но все электронно-сонорные наработки там пригодились: работа со звуком, с пространством… Киномузыкальные поиски тоже туда вошли.
– Был ли у него какой-то доминирующий стиль?
– Нельзя сказать, что он последовательно писал в каком-то одном стиле, что он именно спектралист, именно минималист… Хотя и спектральность, и минимализм у него есть, но на своем месте и в своих пропорциях. Начинал как авангардист, но в авангарде был недолго. На него настолько подействовала рок-музыка, что это решило его стилистический поворот. Еще Артемьев – абсолютно сонорный композитор. Ему не нужны были просто конструкции и числа, поэтому он не обращался к додекафонии или сериализму. Конечно, электроника вся цифровая, поэтому числа там в глубине есть. Но эта логика не лежит на поверхности. Как у Дебюсси: все проводочки, шестеренки убраны в глубину, а слышится аромат гармоний.
Артемьев не порвал с человеческим восприятием. Этим его музыка остросовременна и открыта даже для неподготовленного слушателя. Он сам любит красоту и от мелодии – в блаженстве. Он считал, что музыка должна быть чувственна. Поэтому она производит такое огромное впечатление на людей.
Была одна незаписанная электронная вещь – «Семь врат в мир Сатори» – она, к сожалению, не сохранилась. Владимир Мартынов рассказывал, как в электронную студию в музей Скрябина пришли Михалков и Кончаловский и привели с собой других кинематографических «китов». Михалков привел Антониони, а Кончаловский, по-моему, Копполу. И, кажется, был еще французский композитор Мишель Легран. Они от этих «Семи врат» были просто в ошеломлении. Они не ожидали, что в России пишется такая музыка.
– Его ведь действительно очень любили и режиссеры, и широкие массы людей?
– Да, его музыкальное пространство понятно слушателю. У меня было такое наблюдение. В Зале Чайковского был концерт с киномузыкой Артемьева, его вела Светлана Виноградова, его большая поклонница. Он сидел на сцене, было интервью, комментарии и, конечно, музыка. Концерт был замечательный, стоячие овации… Когда он закончился, все пошли в гардероб, а С. Виноградова осталась на сцене и включила то, что не уместилось по времени в программе: «Океан» памяти Тарковского. И публика повалила в зал! Кто уже оделся, кто держа пальто – все побежали назад и, заполнив зал, стоя слушали. Люди обычно бегут в гардероб – номерки, очередь… А здесь нет. Я думала, вижу ли я это или мне снится.
На его концерты трудно было попадать. Я не попала на премьеру Реквиема в Москве – пришлось ехать в Петербург. Зал Петербургской филармонии не то, что был битком, даже центральный проход был заставлен стульями. Когда звучала музыка, многие вытирали слезы, такое было ее воздействие: энергетика, абсолютный позитив и пространственность. И, конечно, это воспринималось как всеобщая гармония.
Эдуард Артемьев – человек космического слышания… И это не только композиторская характеристика, но и особенность его восприятия мира.
С доцентом М.И. Катунян беседовала Дана Борисова, студентка НКФ, музыковедение